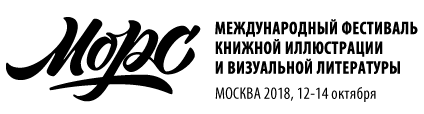«До сегодняшнего дня моё сердце разбилось
тысячу раз. Это ничего.»
тысячу раз. Это ничего.»
Автор статьи Мария Скаф
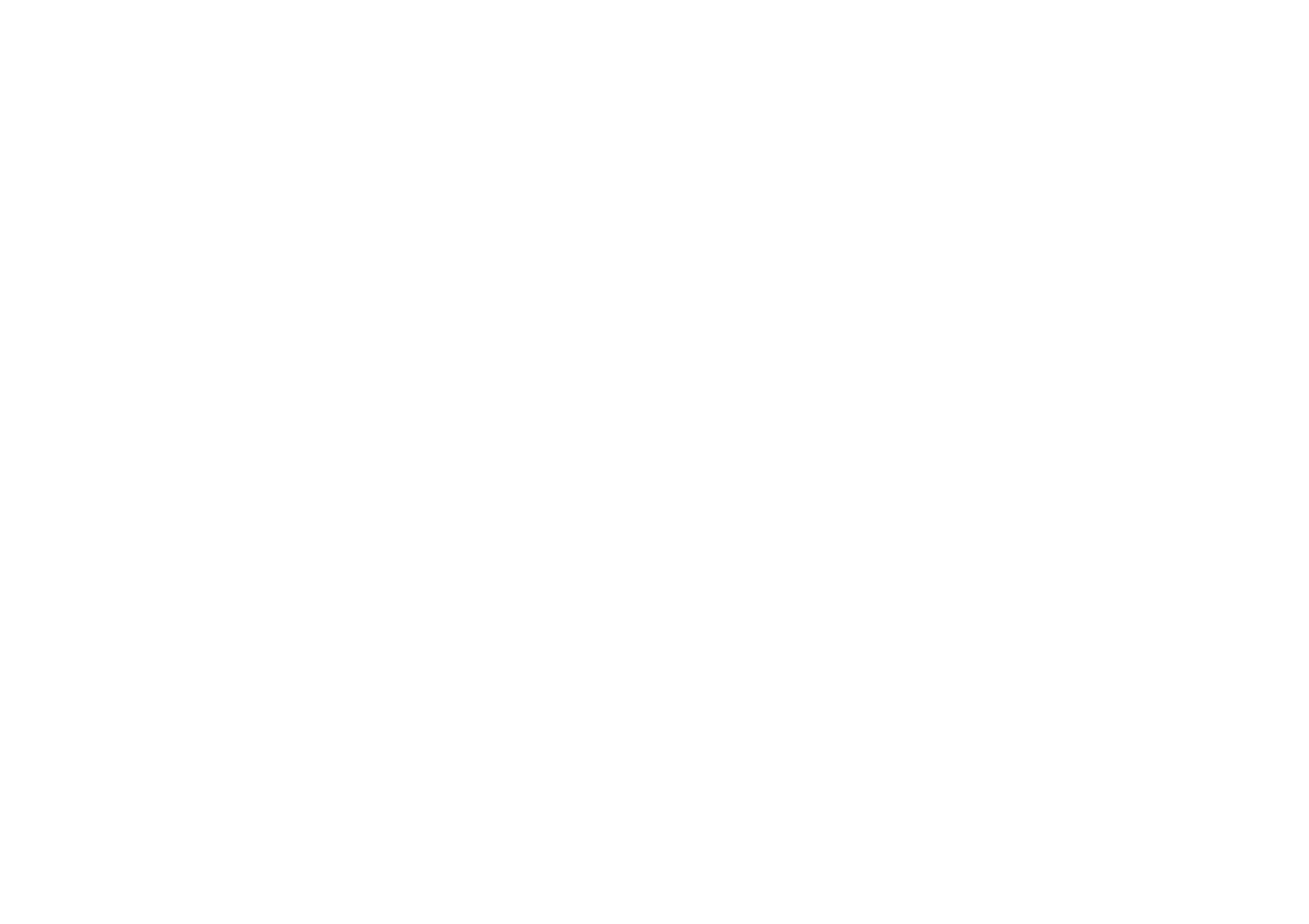
Иллюстрация из книги "Obie" (Justyna Bargielska и Iwona Chmielewska)
«Жизнь не готовила меня к такому выбору» — с этой эмоцией я вчитывалась в шорт-лист медали Андерсена полгода назад. За кого болеть, когда с одной стороны в списке номинантов — русский художник (впервые за столько лет русский художник в шорт-листе!), а с другой — Ивона Хмелевская? Выбор был абсолютно мучительный, и теперь, вдумавшись, я понимаю, что Хмелевская — одна из немногих художниц, кто в принципе мог заставить меня колебаться.
Медаль Андерсена, как и любая крупная премия — это огромный символический капитал. То, что делает художник, как он это делает, после вручения приобретает особый вес. С помощью подобного символического капитала можно привлечь внимание к иллюстраторской школе целой страны, можно открыть миру новые имена и новые течения. По этой причине, минуя всякий патриотизм, мне бы хотелось, чтобы медаль Андерсена получила Хмелевская: то, что она делает — огромная редкость, но при этом — действительно важно.
Кажется, говорить о том, что современная детская книга отходит от буквального иллюстрирования текста в сторону создания визуального нарратива, будет некоторым повторением. Книжка-картинка и комикс достаточно плотно вошли в нашу жизнь, чтобы визуальная литература перестала казаться чем-то революционным и инородным. Мы умеем считывать одновременно знаки разных семиотических систем, мы замечаем знаки, образующиеся на границе этих систем, распознаем художественные тропы, построенные на контрапункте текста и изображения. Мы, как ни посмотри, достаточно подкованы в том, что касается визуальной литературы. Однако Хмелевская в своих книгах проходит настолько дальше по этому пути, что нам остается лишь ошарашено глядеть ей вслед – потому что неясно, как за ней угнаться.
Здесь нам приходится говорить об абсолютно других измерениях, не в том смысле, в котором мы переходим от плоскости к объему в pop-up books, но об абсолютно новых измерениях, о которых мы едва ли слышали прежде. Хмелевская использует то необозначенное пространство, которое проявляется, когда мы переворачиваем страницу (см. например, «A House of the Mind. Maum»). И даже то пространство, которое существует между двумя иллюстрациями на разных сторонах одного листа (см. изумительную «Na wysokiej górze»). Но главное измерение, доступное кроме Хмелевской очень и очень немногим – не формальное, а институциональное.
История русской иллюстрации складывалась таким непростым образом, что сейчас для нас переход от привычного иллюстрированного нарратива к нарративу визуальному – большой, важный шаг на пути к восстановлению русской книжки-картинки. Для современного русского художника открыты все пути. Часто он напрямую наследует русской футуристической книге с ее наделением буквы и слова графической функцией (и созданием визуального нарратива за счет того, что буква отныне – тоже изображение). Так, например, в недавнем интервью Colta.ru Маша Краснова-Шабаева фактически цитирует Хлебникова, говоря, что «единственный шрифт, который должен быть в [зинах], — это буквы, написанные или нарисованные мной от руки» [i] . И в работах Татьяны Кузнецовой, или, скажем, Дарьи Герасимовой мы видим те же приемы интеграции буквы в картинку. С другой стороны некоторые художники обращаются к европейской традиции создания визуального нарратива через смысловое взаимодействие изображения и теста (то есть книг, где часть истории рассказана словами, а часть - иллюстрациями). Здесь отличным примером будет «История старой квартиры» Анны Десницкой и Александры Литвиной.
Однако, каким бы путем современный русский иллюстратор не создавал визуальный нарратив, речь все еще идет о нарративе, то есть традиционной истории, которую расскажет автор, а читатель прочтет. Хмелевская умеет отказаться от привычного нам нарратива и создать историю, минуя сюжет.
Медаль Андерсена, как и любая крупная премия — это огромный символический капитал. То, что делает художник, как он это делает, после вручения приобретает особый вес. С помощью подобного символического капитала можно привлечь внимание к иллюстраторской школе целой страны, можно открыть миру новые имена и новые течения. По этой причине, минуя всякий патриотизм, мне бы хотелось, чтобы медаль Андерсена получила Хмелевская: то, что она делает — огромная редкость, но при этом — действительно важно.
Кажется, говорить о том, что современная детская книга отходит от буквального иллюстрирования текста в сторону создания визуального нарратива, будет некоторым повторением. Книжка-картинка и комикс достаточно плотно вошли в нашу жизнь, чтобы визуальная литература перестала казаться чем-то революционным и инородным. Мы умеем считывать одновременно знаки разных семиотических систем, мы замечаем знаки, образующиеся на границе этих систем, распознаем художественные тропы, построенные на контрапункте текста и изображения. Мы, как ни посмотри, достаточно подкованы в том, что касается визуальной литературы. Однако Хмелевская в своих книгах проходит настолько дальше по этому пути, что нам остается лишь ошарашено глядеть ей вслед – потому что неясно, как за ней угнаться.
Здесь нам приходится говорить об абсолютно других измерениях, не в том смысле, в котором мы переходим от плоскости к объему в pop-up books, но об абсолютно новых измерениях, о которых мы едва ли слышали прежде. Хмелевская использует то необозначенное пространство, которое проявляется, когда мы переворачиваем страницу (см. например, «A House of the Mind. Maum»). И даже то пространство, которое существует между двумя иллюстрациями на разных сторонах одного листа (см. изумительную «Na wysokiej górze»). Но главное измерение, доступное кроме Хмелевской очень и очень немногим – не формальное, а институциональное.
История русской иллюстрации складывалась таким непростым образом, что сейчас для нас переход от привычного иллюстрированного нарратива к нарративу визуальному – большой, важный шаг на пути к восстановлению русской книжки-картинки. Для современного русского художника открыты все пути. Часто он напрямую наследует русской футуристической книге с ее наделением буквы и слова графической функцией (и созданием визуального нарратива за счет того, что буква отныне – тоже изображение). Так, например, в недавнем интервью Colta.ru Маша Краснова-Шабаева фактически цитирует Хлебникова, говоря, что «единственный шрифт, который должен быть в [зинах], — это буквы, написанные или нарисованные мной от руки» [i] . И в работах Татьяны Кузнецовой, или, скажем, Дарьи Герасимовой мы видим те же приемы интеграции буквы в картинку. С другой стороны некоторые художники обращаются к европейской традиции создания визуального нарратива через смысловое взаимодействие изображения и теста (то есть книг, где часть истории рассказана словами, а часть - иллюстрациями). Здесь отличным примером будет «История старой квартиры» Анны Десницкой и Александры Литвиной.
Однако, каким бы путем современный русский иллюстратор не создавал визуальный нарратив, речь все еще идет о нарративе, то есть традиционной истории, которую расскажет автор, а читатель прочтет. Хмелевская умеет отказаться от привычного нам нарратива и создать историю, минуя сюжет.
«Покуда небо не плачет» – книга как раз из таких. Она возникла благодаря фотографиям люблинских евреев, найденным на чердаке одного из домов: они сохранились со времен войны, спрятанные в дымоходе. Перед войной в Люблине жило 45 тысяч евреев. Почти все они погибли в Белжеце в марте-апреле 1942 года. Другой жертвой стал школьный учитель Юзеф Чехович, погибший во время бомбежки в самом начале войны. «Покуда небо плачет» - это сборник его детских стихов, которые сопровождают найденные фотографии и иллюстрации самой Хмелевской.
На этих довоенных снимках люди не подозревают, что с ними станет. Они сидят в студии на специальных стульях, обнимая друг друга, улыбаются, выглядывая из окон, катаются на велосипедах, раскачиваются в гамаке, - мы можем лишь строить догадки о том, что за жизнь у них там, за кадром, однако мы точно знаем, что эта жизнь есть. Стихи Чеховича – нежные и лиричные сами по себе – в сочетании с фотографиями приобретают особенный трагизм. В них будто чувствуется боль утраты, которая на самом деле еще не случилась:
На этих довоенных снимках люди не подозревают, что с ними станет. Они сидят в студии на специальных стульях, обнимая друг друга, улыбаются, выглядывая из окон, катаются на велосипедах, раскачиваются в гамаке, - мы можем лишь строить догадки о том, что за жизнь у них там, за кадром, однако мы точно знаем, что эта жизнь есть. Стихи Чеховича – нежные и лиричные сами по себе – в сочетании с фотографиями приобретают особенный трагизм. В них будто чувствуется боль утраты, которая на самом деле еще не случилась:
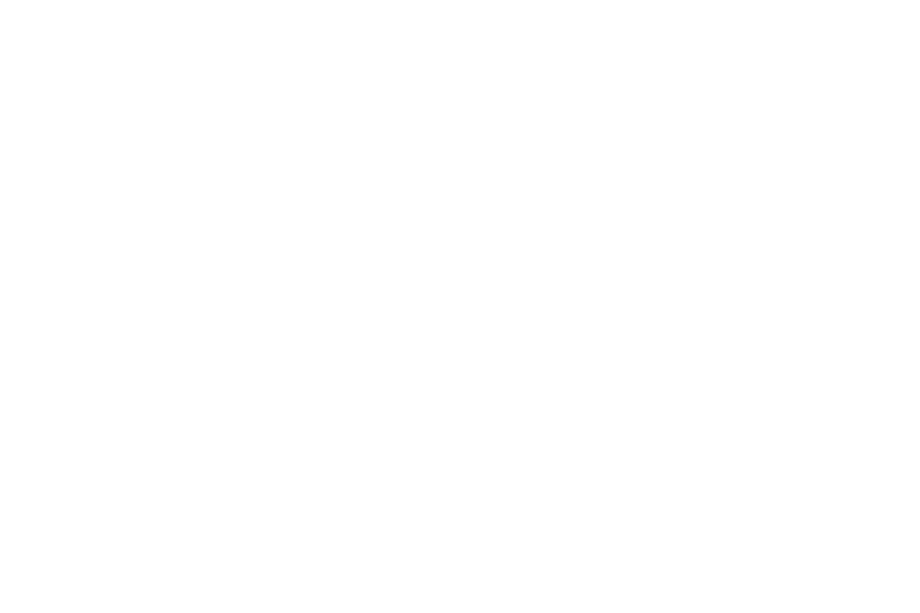
[i] Здесь и далее перевод с польского выполнен Марком Кацом.
«Мамочка, Люблин такой серебряный
Напоминает мне твои сказки
О полётах небесных коней,
О чарах лампы Алладина...
<…>
На улочках голубые разводы,
В закоулках посеребрено и бело.
На ниши ворот и окон
Намело снежных "барашков"...
Это днём. А когда ночью
Лопнет пузырь очарования
И звёзды позолотят небо,
О, мамочка, как же будет красиво!» [ii]
Напоминает мне твои сказки
О полётах небесных коней,
О чарах лампы Алладина...
<…>
На улочках голубые разводы,
В закоулках посеребрено и бело.
На ниши ворот и окон
Намело снежных "барашков"...
Это днём. А когда ночью
Лопнет пузырь очарования
И звёзды позолотят небо,
О, мамочка, как же будет красиво!» [ii]
Но на картинах Хмелевской царит покой. Каждому она дорисовывает утраченную жизнь: семейные ужины, путешествия, конные прогулки, походы на речку всей семьей, детей и их первые шаги, воздушных змеев и тихие вечера – все то, чего у них больше не будет. В ее книге людям ничего не угрожает, история будто пошла по другому пути, который мы не можем описать точно – нам не рассказывают о нем средствами традиционного нарратива, - но который мы можем почувствовать и вообразить. История, рассказанная Хмелевской, не существует без контекста, но встроенная в этот контекст, она становится больше книги, как физического объекта. Она переходит в измерение художественно обработанного исторического памятника.
Этот тот самый институциональный переход, который так ценен в ее работах. Книги Хмелевской всегда больше, чем просто книги. Особенно – чем книги детские, которым так часто навязывают необходимость быть «полезными», «красивыми», «веселыми» и «интересными». Книги Хмелевской никому ничего не должны. Они – самостоятельное художественное высказывание, ценное само себе. Поэтому так часто в ее книгах нет привычного нам нарратива – потому что искусство не обязано быть нарративным (мы ведь не ждем конвенционального сюжета от Урса Фишера или Джексона Поллока).
«Обе» - стихотворение Юстыны Баргельски, построенное, как обращение матери к взрослеющей дочери:
Этот тот самый институциональный переход, который так ценен в ее работах. Книги Хмелевской всегда больше, чем просто книги. Особенно – чем книги детские, которым так часто навязывают необходимость быть «полезными», «красивыми», «веселыми» и «интересными». Книги Хмелевской никому ничего не должны. Они – самостоятельное художественное высказывание, ценное само себе. Поэтому так часто в ее книгах нет привычного нам нарратива – потому что искусство не обязано быть нарративным (мы ведь не ждем конвенционального сюжета от Урса Фишера или Джексона Поллока).
«Обе» - стихотворение Юстыны Баргельски, построенное, как обращение матери к взрослеющей дочери:
«До сегодняшнего дня моё сердце разбилось тысячу раз, это ничего, так бывает в жизни. Но однажды моё сердце было разбито, как говорят доктора, со смещением.
Когда я тебя родила, ты взяла себе кусочек моего сердца, и теперь бродишь с ним,
я даже не знаю, где.
Это странное чувство, когда твое сердце находится вне твоего тела, и ты даже не знаешь где. Может, оно на велосипеде поехало на речку? Может, оно у Марыси из первого подъезда? Может, не у Марыси, а у Янка? А не слишком ли оно молодо для этого?»
Когда я тебя родила, ты взяла себе кусочек моего сердца, и теперь бродишь с ним,
я даже не знаю, где.
Это странное чувство, когда твое сердце находится вне твоего тела, и ты даже не знаешь где. Может, оно на велосипеде поехало на речку? Может, оно у Марыси из первого подъезда? Может, не у Марыси, а у Янка? А не слишком ли оно молодо для этого?»
Хмелевская отказывается от буквального иллюстрирования, концентрируясь на ощущении от текста: страхе потерять самое дороге, понимании, что отпустить взрослеющего ребенка все равно придется, том чувстве, когда тебя уже столько лет двое, но вот ты скоро снова станешь одна. А так же чувстве, что, нет, ты уже никогда не будешь одна: ваши руки связаны красной нитью судьбы. Красная нить появляется в иллюстрациях, проходит крупными нарисованными стежками через несколько страниц, переходит в новое измерение, уже по-настоящему прошивая один из разворотов, и, наконец, сворачивается кольцом на запястье, становясь одной из множества метафор, наполняющих книгу.
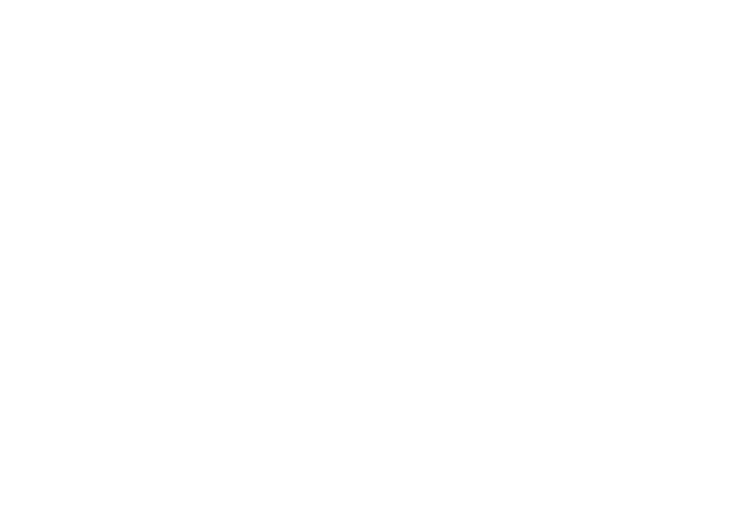
И текст, и изображение семантически насыщенны, однако чувства пресыщения не возникает: Хмелевская использует сдержанные цвета, пространство иллюстрации разрежено. Насыщенность здесь – это интенсивность чувств и смыслов, но не событий.
Стилю Хмелевской в принципе присуща вот эта сдержанность. О чем бы ни была книга, Хмелевская предпочитает деликатность и недосказанность буквальному изображению. «Королевство девочки» - еще одна история о взрослении, но на этот раз взрослении физиологическом. Это иносказательная притча о первой менструации и о том, как девочка становится девушкой и женщиной - следом, учится принимать себя и любить особенности своего тела. Здесь Хмелевская, выступая и как художник, и как автор текста, вновь выбирает метафору своим основным инструментом. Первые, самые психологически сложные месячные – словно острый красный карандаш, торчащий из тела, все вокруг, жизнь сама по себе становится не по размеру – девушка еще слишком маленькая, чтобы справиться с изменившейся собой. Но со временем она учится чувствовать себя королевой в своем царстве, учится носить корону и шлейф, учится держать рыцарей на коротком поводке и управлять драконом.
Приглушенные цвета, обтянутый шелком корешок книги, словестная игра, построенная на образе принцессы в волшебной стране – все, что испытывает Хмелевская (а следом и читатель) к этой взрослеющей девочке – бесконечная нежность и сочувствие.
Это книга – утешение, книга, которая должна дарить надежду и вселять уверенность в себе.
Стилю Хмелевской в принципе присуща вот эта сдержанность. О чем бы ни была книга, Хмелевская предпочитает деликатность и недосказанность буквальному изображению. «Королевство девочки» - еще одна история о взрослении, но на этот раз взрослении физиологическом. Это иносказательная притча о первой менструации и о том, как девочка становится девушкой и женщиной - следом, учится принимать себя и любить особенности своего тела. Здесь Хмелевская, выступая и как художник, и как автор текста, вновь выбирает метафору своим основным инструментом. Первые, самые психологически сложные месячные – словно острый красный карандаш, торчащий из тела, все вокруг, жизнь сама по себе становится не по размеру – девушка еще слишком маленькая, чтобы справиться с изменившейся собой. Но со временем она учится чувствовать себя королевой в своем царстве, учится носить корону и шлейф, учится держать рыцарей на коротком поводке и управлять драконом.
Приглушенные цвета, обтянутый шелком корешок книги, словестная игра, построенная на образе принцессы в волшебной стране – все, что испытывает Хмелевская (а следом и читатель) к этой взрослеющей девочке – бесконечная нежность и сочувствие.
Это книга – утешение, книга, которая должна дарить надежду и вселять уверенность в себе.
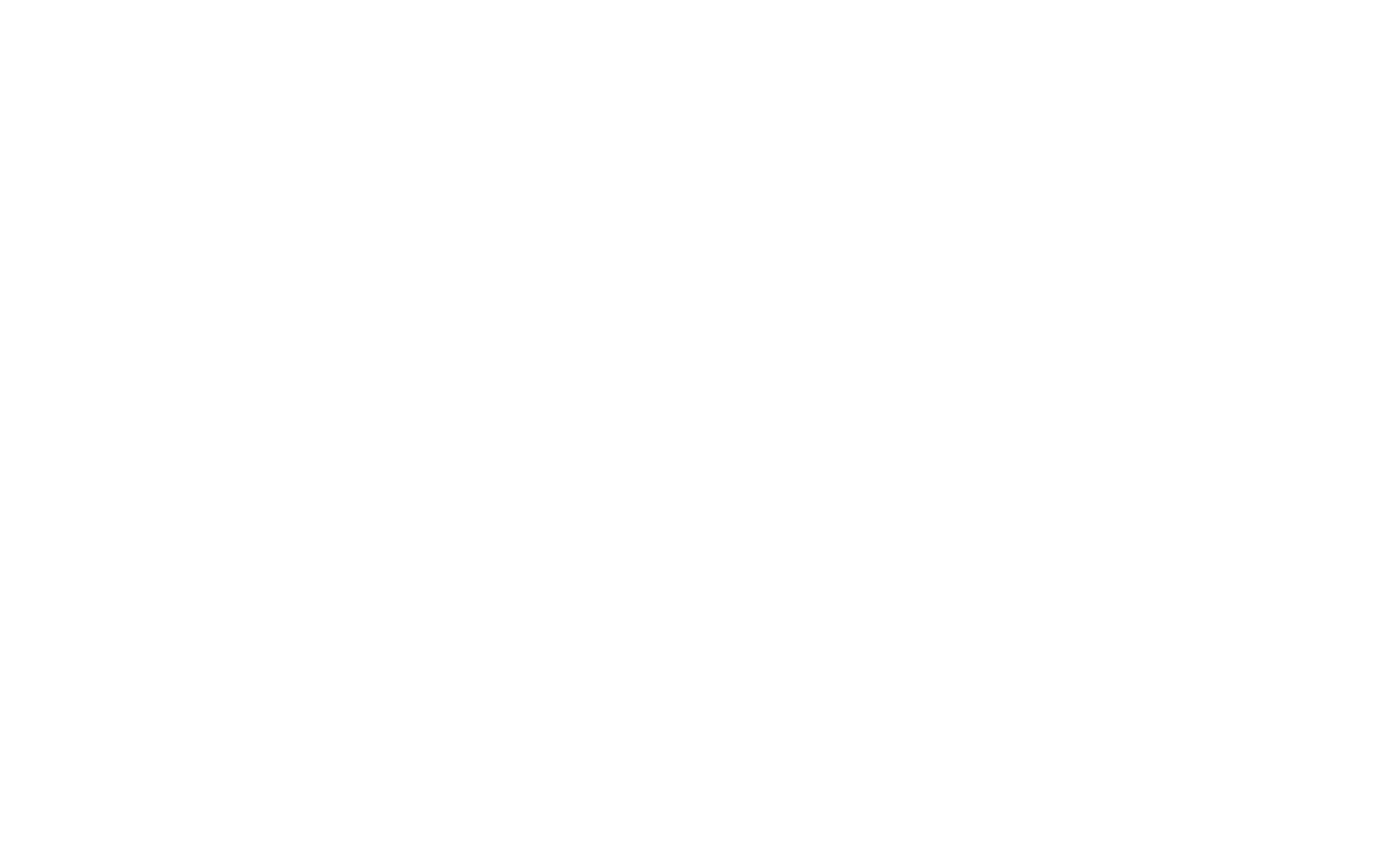
Такие книги, кроме Хмелевской, не делает почти никто. Это больше, чем разговор с ребенком, больше, чем проблемная литература для подростков - это искусство, созданное в полной уверенности, что читателю хватит чуткости, чтобы его понять. И это, кажется, самое потрясающее, что есть у Хмелевской – отвага, с которой она доверяет читателю, смелость, с которой она заводит с нами разговор о самом интимном, самом страшном и самом дорогом.
Выставка работ Ивоны Хмелевской пройдет 5-22 октября
в библиотеке иностранной литературы (детский зал): http://berrywaterfestbookillustration.ru/iwona_chm...
Работы к книге "Обе" будут выставлены
на Международном фестивале книжной иллюстрации и визуальной литературы "Морс" 12-14 октября.
[i] https://www.colta.ru/articles/art/19068
Выставка работ Ивоны Хмелевской пройдет 5-22 октября
в библиотеке иностранной литературы (детский зал): http://berrywaterfestbookillustration.ru/iwona_chm...
Работы к книге "Обе" будут выставлены
на Международном фестивале книжной иллюстрации и визуальной литературы "Морс" 12-14 октября.
[i] https://www.colta.ru/articles/art/19068